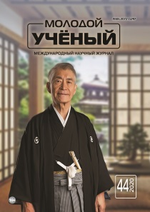Принудительное лицензирование лекарственных препаратов
Дата публикации: 01.11.2020 2020-11-01
Статья просмотрена: 24 раза
Библиографическое описание:
Чувашова, М. А. Принудительное лицензирование лекарственных препаратов / М. А. Чувашова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 44 (334). — С. 305-308. — URL: https://moluch.ru/archive/334/74646/ (дата обращения: 22.09.2021).
Анализируется порядок выдачи принудительных лицензий в действующем законодательстве РФ, а также в законодательстве зарубежных стран. Даётся оценка законопроекту о принудительном лицензировании лекарственных препаратов, подготовленному ФАС. Рассматриваются последствия введения процедуры принудительного лицензирования лекарственных препаратов.
Ключевые слова: принудительное лицензирование, лекарственные препараты, законодательство.
Выдача принудительных лицензий в различных формах (или под разными названиями) началась еще в Англии в середине XIX века, и продолжилась в других странах мира в XX, а затем и XXI веке. На первый взгляд может показаться, что механизм принудительного лицензирования может быть запущен только лишь в случае чрезвычайных или экстренных ситуаций, однако международно-правовые акты устанавливают иной порядок. Согласно Дохинской декларации, разъясняющей положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) — «Каждый участник имеет право самостоятельно определять условия и ситуации для выдачи принудительных лицензий» [5]. Российская Федерация с 22.08.2012, как участница ВТО, обязана выполнять в том числе и требования Соглашения ТРИПС.
Условно принудительные лицензии подразделяются на две большие группы: лицензии, выдаваемые по решению суда по запросу третьих лиц, и лицензии, выдаваемые правительством страны, либо иным уполномоченным на то органом.
Законодательство РФ допускает предоставление принудительных лицензий по судебному решению (статья 1362 ГК РФ), так и в порядке административной процедуры — с разрешения правительства (статья 1360 ГК РФ).
Обратимся к судебному порядку предоставления принудительных лицензий, так статья 1362 ГК РФ устанавливает исчерпывающий перечень оснований предоставления. Пункт 1 относит к данным основаниям отказ правообладателя от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, если им не используются либо недостаточно используются объект интеллектуальной собственности в течение определенного срока и это приводит к недостаточному предложению товаров, работ или услуг на рынке. Указанная норма нацелена на стимулирование рационального и эффективного осуществления исключительных прав [1].
В пункте 2 статьи 1362 ГК РФ выделено такое основание для принудительного лицензирования, как невозможность использования объекта интеллектуальной собственности правообладателем без нарушения прав обладателя другого патента, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, при особом характере зависимого изобретения, представляющего собой важное техническое достижение, имеющее преимущество перед первым патентоохраняемым объектом [1]. Правовая норма направлена на обеспечение как общественного интереса в развитии инновационной системы, так и частного интереса, в том числе на развитие здоровой конкуренции. Существенным недостатком данной нормы является абстрактность понятия «важное техническое достижение», подходы к раскрытию которого еще не выработаны судебной практикой. Также стоит отметить, что единственным прецедентом получения принудительной лицензии в судебном порядке с момента появления правовой нормы стала выдача соответствующей лицензии ООО «Натива» на леналидомид: компания должна была выплачивать оригинатору Celgene роялти — 30 % выручки от продаж дженерика. Однако в сентябре 2018 года Роспатент по ходатайству третьего лица аннулировал зависимый патент компании.
Определенный механизм обеспечения частных и публичных интересов, а именно административный порядок получения принудительной лицензии закреплен в статье 1360 ГК РФ. Правительство РФ имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Отсутствие необходимых лекарств может представлять опасность для здоровья граждан, следовательно, данную ситуацию потенциально можно рассматривать как угрозу безопасности государства. Однако в настоящий момент отсутствует подзаконный нормативно-правовой акт Правительства РФ, регламентирующий порядок выдачи таких разрешений, таким образом, статья 1360 ГК РФ представляет собой декларативную норму.
Тема поиска баланса между интересами производителей и потребителей патентованных лекарственных средств стала чрезвычайно актуальной в последние годы. Обострение дискуссии связано как с экономическими факторами (принципиально невозможно обеспечить гарантированное Конституцией РФ бесплатное лекарственное обеспечение современными патентованными препаратами всех нуждающихся), так и с развитием медицины (появление революционных способов лечения) и большой общественной потребностью (эпидемией смертельных, но излечимых заболеваний) [3, с. 88].
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года определено — развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения Российской Федерации являются важнейшими направлениями обеспечения национальной безопасности, для реализации которых проводится долгосрочная государственная политика в сфере охраны здоровья граждан. Стратегическими целями такой политики выступают, в частности, повышение доступности и качества медицинской помощи, соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий. Одними из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации являются возникновение масштабных эпидемий и пандемий, массовое распространение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных веществ. [2]
В отношении лекарственных препаратов в России сложились две относительно автономные системы правовой охраны. Первая представляет собой государственную регистрацию препаратов, которая осуществляется для обеспечения их безопасности, эффективности и качества и регулируется Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» № 61-ФЗ от 12.04.2010. Второй системой является патентная охрана лекарственных препаратов, регулируемая главой 72 ГК РФ. Лекарства охраняются как изобретения: либо как продукты (вещества), либо как способы. В последнем случае охраняются способы получения или применения лекарственных препаратов, а сами лекарственные препараты пользуются косвенной правовой охраной, как объекты, полученные запатентованным способом. На лекарственные препараты выдаются патенты на изобретения, которые закрепляют за их владельцами (патентообладателями) интеллектуальные права, важнейшим из которых является исключительное право. В действительности системы функционально и практически не связаны между собой.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России еще в 2016 г. выступила с инициативой введения принудительного лицензирования на лекарства, если это необходимо для охраны здоровья населения. ФАС предлагает предоставить Правительству РФ полномочия разрешать использование разработок без согласия патентообладателя с выплатой ему компенсации. Механизмом реализации данной идеи является введение в Гражданский кодекс РФ закрытого списка условий принудительного лицензирования — установление монопольно высокой цены, изъятие товара из обращения или остановка его производства, которые должны быть зафиксированы ФАС. При этом механизм принудительного лицензирования может использоваться «в интересах охраны жизни и здоровья граждан», дополнение к имеющимся формулировкам статьи 1360 ГК РФ. В научной литературе отмечается, что данная формулировка по своей сути является достаточно широкой, в результате чего, её действие можно распространить не только на фармацевтический рынок, но и на социальную сферу, агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство и иные смежные отрасли промышленности.
Обеспокоенность возможными последствиями принятия законопроекта, предложенного ФАС, также была выражена экспертами. Заместитель председателя Правительства РФ А. В. Дворкович считает, что «эта мера может серьезно изменить имидж страны и качнуть в другую сторону те немногие каналы, через которые еще идет инвестирование в Россию. Если речь идет о препарате абсолютно инновационном, то основным станет вопрос: можно ли, не имея полной документации и технологической схемы, выпускать его с надлежащим качеством?» К сожалению, опыт принудительного лицензирования в Бразилии показал, что ожидания технологических возможностей собственного производителя были завышены.
В научной литературе многократно отмечалось, что предусмотренная Конституцией РФ обязанность государства обеспечить право на жизнь, здоровье и благополучие не может быть выполнена в рамках существующего правового регулирования. Именно поэтому законопроект ФАС по введению принудительного лицензирования или по ужесточению критериев патентоспособности выглядит неполным и не может решить проблему отсутствия обеспечения населения должными лекарственными средствами без серьезной переработки как патентного законодательства, так и законодательства в сфере обращения лекарственных средств [3, с. 88]. Без вышеотмеченных направлений совершенствования законодательства есть опасность, что принудительная лицензия останется формальным механизмом, прописанным на бумаге «для галочки», но не реализуемым в краткосрочной перспективе.
Применение механизма принудительного лицензирования — процедура, уже неоднократно опробованная в самых разных странах — с разным уровнем дохода и разной эпидемиологической ситуацией.
Обращаясь к опыту зарубежных стран, можно выделить как позитивные, так и негативные последствия, к которым может привести введение процедуры принудительного лицензирования лекарственных препаратов.
К положительным моментам перспективы использования принудительного лицензирования лекарственных препаратов можно отнести:
− создание условий для остановки эпидемий, искоренения заболеваний, равного доступа к оптимальному стандарту лечения для всех нуждающихся;
− снижение цен на лекарственные препараты;
− экономия бюджетных средств, выделяемых на закупку жизненно важных препаратов. Сэкономленные средства могут быть потрачены не только на увеличение объема закупаемых лекарств, но и на оптимизацию схем лечения;
− ускорение доступа к отдельно взятым препаратам.
К отрицательным моментам от возможного введения процедуры принудительного лицензирования лекарственных препаратов, относят:
− отказ от ввода на рынок инновационных препаратов, поскольку именно они в первую очередь могут стать объектами принудительной лицензии, применение которой может повлечь существенные убытки для производителей оригинальных лекарственных средств в отсутствие детализированных механизмов расчета и выплаты соответствующей компенсации, способных учитывать интересы как правообладателей фармацевтических организаций, так и публичные интересы государства и общества;
− снижение инвестиционной привлекательности государства для иностранных инвесторов;
− незаинтересованность фармацевтических компаний, использующих принудительные лицензии, в проведении исследований и разработок;
− отсутствие гарантий получения пациентами препаратов надлежащего качества. Как показывает практика — у многих компаний, получивших принудительную лицензию, нет необходимых производственных мощностей, в результате чего — либо затягиваются сроки вывода на рынок аналогов оригинальных лекарств, либо сильно страдает качество подобных препаратов.
Подводя итог, можно отметить, в идеале процедура принудительного лицензирования лекарственных препаратов должна обладать эффективным механизмом как для защиты интересов правообладателей фармацевтических организаций, так и для защиты публичных интересов государства и общества. В тоже время на практике не представляется возможным выработать механизм принудительного лицензирования, который будет способен обеспечивать защиту здоровья населения, инновационное развитие государства, защиту интеллектуальной собственности, свободу ведения бизнеса и поддержание конкуренции и при этом не будет ущемлять права фармацевтических компаний.
Общественные и политические деятели предлагают прибегнуть к принудительному лицензированию лекарственный препаратов с целью снижения стоимости препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита С и онкологических заболеваний. В то же время подобные перспективы представляются туманными, ведь никакой статистической информации, обобщившей положительный опыт зарубежных стран, нет. Кроме того, большинство экспертов отмечают, что данный институт не получил широкого распространения в мировой практике, и возможные минусы от его использования превалируют над плюсами, достигнуть которых практически невозможно в современных реалиях.
Таким образом, можно отметить, что на данном этапе развития общества и государства институт принудительного лицензирования лекарственных препаратов не требует дальнейшего углубления его правовой регламентации в законодательстве Российской Федерации.
Источник
«Фармасинтез» хочет выпускать средство от COVID-19 без согласия владельца патента
Президент и владелец компании «Фармасинтез» Викрам Пуния направил письма руководителю администрации президента России Антону Вайно и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой разрешить использовать патенты Gilead Sciences на препарат с международным непатентованным наименованием ремдесивир для производства его аналога. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Ее подлинность подтвердил представитель «Фармасинтеза».
Представитель правительства подтвердил получение письма и отметил, что оно было перенаправлено для рассмотрения в Минздрав, Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роспатент. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель ФАС подтвердил получение обращения.
Ремдесивир – это противовирусное средство, разработанное и выпускаемое американской Gilead Sciences под брендом «Веклури». В октябре 2020 г. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрило этот препарат для лечения COVID-19. В июле Всемирная организация здравоохранения называла ремдесивир «единственным обнадеживающим средством от COVID-19». В октябре препарат был зарегистрирован в России, после чего Минздрав внес его в свой список лекарств, рекомендованных против коронавируса. Как следует из письма Пунии, препарат применяется в тяжелых и среднетяжелых случаях.
Компания уже даже разработала аналог ремдесивира и зарегистрировала его под брендом «Ремдеформ», пишет Пуния. Но выпускать свой дженерик производитель не может, так как препарат защищен патентом Gilead Sciences. В письме Пуния утверждает, что в июле этого года обращался в американскую компанию с запросом о начале переговоров о заключении лицензионного соглашения и предоставлении права использования патентов, но ответа не получил. В письме Пунии также указывается, что производитель «Веклури» предоставил добровольные лицензии на выпуск своего лекарства в 127 странах мира, но России среди них нет. Представитель Gilead Sciences отказался от комментариев.
Обратившись в правительство и администрацию президента, «Фармасинтез» просит у государства применить процедуру так называемого принудительного лицензирования, т. е. получения права на использование технологии иностранной компании независимо от желания правообладателя, объясняет руководитель практики здравоохранения и фармацевтики Bryan Cave Leighton Paisner Russia Владислав Вдовин. Выдача такого разрешения предусмотрена статьей 1360 Гражданского кодекса РФ: она оговаривает право правительства РФ разрешать использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя в интересах обороны и безопасности страны.
В этом случае патентообладатель получает соразмерную компенсацию, говорится в статье. Но, по словам Вдовина, до сих пор на фармацевтическом рынке нашей страны это не применялось. В мировой практике такая процедура используется в крайних случаях, поскольку это может подорвать доверие иностранного бизнеса и снизить инвестиционную активность, уточняет Вдовин.
Пятидневный курс лечения одного пациента при помощи «Веклури» стоит $2340, ссылается Пуния в письме на данные Gilead Sciences. Компания хочет получить лицензию на использование патентов американской компании для обеспечения российских пациентов этим средством по более низкой цене. На момент отправки письма (5 октября) в России было зафиксировано 235 858 больных COVID-19, находящихся в активной стадии лечения, пишет Пуния. С учетом этого для обеспечения оригинальным препаратом ремдесивир даже половины пациентов потребуется более 20 млрд руб., говорится в обращении. Кроме этого, Пуния со ссылкой на Euronews указывает, что 90% производственных мощностей Gilead Sciences зарезервировано под нужды США.
Представитель Минздрава пояснил «Ведомостям», что ремдесивир может применяться только в условиях стационара. По его словам, в настоящее время идет расчет потребности в нем медицинских организаций. Потенциальный размер госзаказа на ремдесивир от «Фармасинтеза» напрямую будет зависеть от цены препарата, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Согласно госреестру лекарственных средств стоимость оригинального препарата в России пока не зарегистрирована.
Но c учетом названной Пунией его стоимости у Gilead Sciences это лекарство пока что самое дорогое в перечне, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его оценке, «Фармасинтез» сможет выпускать свой дженерик по цене от 30 000 до 50 000 руб. за курс. В то же время по своему действию это лекарство схоже с другим препаратом из перечня – фавипиравиром, который, в свою очередь, стоит дешевле. Согласно госреестру, цена упаковки из 50 таблеток составляет 5000 руб., а на курс лечения может потребоваться две упаковки, сообщало отраслевое издание «Фармвестник».
Возможность выдачи принудительной лицензии на производство лекарственного препарата предусмотрена в рамках статьи 31 bis Международного соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS) ВТО, поясняет «Ведомостям» партнер юридической фирмы Eversheds Sutherland адвокат Екатерина Тиллинг. В частности, такая мера допускается в случае, если государство имеет ограниченные возможности для экспорта препарата, причем не во все страны, а только в те, которые подпадают под определение экономически наименее развитого члена ВТО. В таком случае, если российские власти действительно выдадут «Фармасинтезу» принудительную лицензию в административном порядке, им придется обосновать перед Gilead Sciences необходимость такой меры, отмечает Тиллинг.
В то же время, по ее данным, в международных законодательствах не существует норм, предусматривающих санкции в связи с выдачей принудительной лицензии. Между тем как ответная мера может возникнуть спор в рамках процедур ВТО. Впрочем, адвокат сомневается в том, что такой механизм в принципе будет применен, так как в России имеются собственные разработки для лечения коронавируса. Также не стоит забывать, что правообладателю в любом случае должна быть предоставлена соразмерная компенсация за выдачу такой принудительной лицензии, что корреспондируется с нормами статьи 1360 ГК РФ и статьи 31 bis TRIPS. И размер такого вознаграждения тоже должен быть обоснован.
Всего в списке Минздрава шесть препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса. Туда вошли как зарегистрированные в России специально для лечения COVID-19, так и существовавшие на рынке препараты для лечения других заболеваний. Продажи последних после этого резко выросли. Например, в январе – сентябре продажи умифиновира «Фармстандарта» (продается под маркой «Арбидол») только в аптеках выросли на 292,4% год к году.
В подготовке статьи принимала участие Светлана Бочарова
Источник