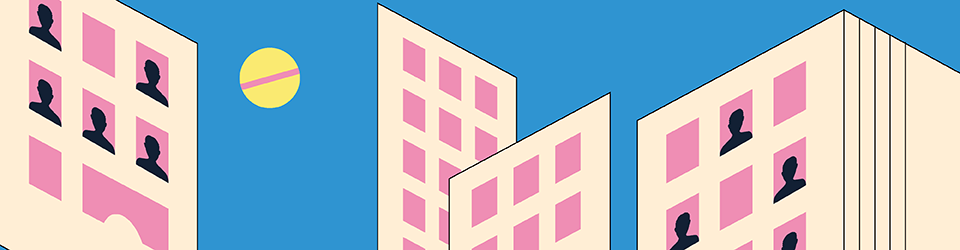Пациенты против больниц: шесть дел о компенсации морального вреда
Ошибку нижестоящей инстанции исправил Хабаровский краевой суд в деле Ольги Власовой* (№ 2-693/2019). Её мать лечили в районной больнице, а потом она умерла от осложнений. Дочь обвиняла врачей в том, что они провели неполные исследования, поэтому мать скончалась. Экспертиза подтвердила недостатки медпомощи. Но районный суд отказал Власовой: он счёл, что она не доказала вину больницы, а также причинно-следственную связь поведения врачей и смерти матери.
С этим не согласился краевой суд. Вина ответчика действительно не доказана, согласилась апелляция. В то же время экспертиза подтвердила недостатки оказания медпомощи. И именно больница должна доказать, что провела неполное исследование не по своей вине. Поскольку это не подтверждено, то Власовой присудили компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб.
Такой правоприменительный подход, к счастью для пациентов, сформировался в судах в последнее время, комментирует Ирина Фаст из Гражданские компенсации Гражданские компенсации Региональный рейтинг. × . «Если сравнивать с практикой прошлых лет, то тогда пациент всегда должен был доказывать факт нарушения его прав, что было крайне сложно», – отмечает эксперт.
Директор «Правового медконтроля» Марина Агапочкина видит недостатки в судебном акте апелляции. Суд возложил ответственность на больницу, потому что экспертиза подтвердила недостатки оказания медпомощи. Но также должна быть установлена причинно-следственная связь между этим недостатком и смертью матери Власовой, а в судебном акте апелляции этого вывода нет, обращает внимание Агапочкина.
В России нет официальной статистики дефектов оказания медицинской помощи, но некачественная и неполная диагностика – одна из главных причин осложнений и смертности пациентов, утверждает Фаст. О том, что врачи должны выполнять все стандарты, напомнил Пензенский областной суд в деле № 33-3390/2019. В суд на больницу ФСИН подал Владимир Свиридов*. Он утверждал, что ему не назначили необходимых обследований. Первая инстанция отклонила иск. Она учла, что непроведение одного из исследований не нарушает приказ Минздрава об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при заболевании Свиридова.
Иного мнения оказалась апелляция. Она сочла, что пациенту, напротив, не назначили обследования и лечения, которые включены в минимальный объём медпомощи по его болезни. Обратного больница не доказала. Также она не опровергла свою вину. С такими выводами областной суд назначил Свиридову компенсацию в размере 50 000 руб.
Стандарты медицинской помощи предусматривают определённую частоту предоставления конкретного мероприятия (лечебного или диагностического) – от 0,1 (предоставляется 10%) – до 1 (предоставляется 100%), делится Агапочкина. «Если эксперты пришли к выводу, что ответчик не провёл диагностические мероприятия, предусмотренные стандартом с частотой предоставления «1» или «100%», то нарушение нормативного стандарта имеется», – говорит эксперт.
На это указал Челябинский областной суд в деле № 11-9861/2019. Истцы не смогли прикрепиться к одной из городских больниц из-за «превышения плановой мощности медорганизации». Также им указали, что их адрес не относится к территории обслуживания больницы. Этот отказ признал законным суд первой инстанции, который учёл перегрузку учреждения.
Но закон не даёт больнице право отказать в прикреплении, возразила апелляционная тройка судей. Также застрахованное лицо не ограничено в выборе медицинской организации. Поэтому областной суд обязал ответчика взять истцов на медицинское обслуживание и присудил им по 500 руб. компенсации морального вреда.
По этой причине Верховный суд Якутии отказал Анастасии Струковой* в выплатах с поликлиники, где лечилась её мать при жизни. Первая инстанция присудила истице ряд выплат, в том числе 120 000 руб. компенсации морального вреда, потому что экспертиза подтвердила дефекты врачебной помощи.
Но при этом ни один из них не привёл к смерти пациентки. На это обратила внимание апелляция. Это могло указывать, что неправильная медпомощь причинила вред матери Струковой, за что она могла бы получить компенсацию. Но право на компенсацию морального вреда неразрывно связано с личностью потерпевшего. Следовательно, Струкова не могла получить его по наследству. С таким обоснованием апелляция отказала в иске по делу № 33-1048/2019.
В деле № 33-8112/2019 иск подала Ирина Бородина* в интересах себя и маленького сына-инвалида. Ему ежедневно требовались инсулиновые иглы и тест-полоски, но детская поликлиника не выписывала рецепты со дня постановки на учёт. Поэтому мать покупала их сама год и два месяца, а затем решила вернуть потраченные суммы, а также компенсировать моральный вред. Первая инстанция взыскала убытки, но во втором требовании отказала. Ведь законы не предусматривают компенсаций морального вреда, если нарушается право инвалида на лекарственное обеспечение.
Но даже если в законе нет прямого указания, то это не всегда значит, что потерпевший не имеет права на возмещение морального вреда, возразил Иркутский областной суд. Право на бесплатные медицинские изделия помогает человеку поддерживать необходимый жизненный уровень. Если оно нарушается, то это угрожает здоровью и подрывает достоинство личности, указала апелляция.
В итоге больницу обязали обеспечить ребёнка всем необходимым и взыскали компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.
«Необеспечение жизненно необходимыми лекарствами создаёт реальную угрозу жизни больного, – комментирует Фаст. – Это повод взыскать компенсацию морального вреда». По словам эксперта, практика по этому вопросу сформировалась. Основные сложности подобных дел – долгая процедура доказывания, ведь в основном пациентам отказывают устно, а не письменно, рассказывает Фаст. Другой минус – низкие размеры компенсации морального вреда. «Можно судиться шесть месяцев и получить 5000 руб.», – говорит юрист.
Норму применил Хабаровский краевой суд в деле № 33-7165/2019, где общество защиты прав потребителей подало иск к частной клинике. Там провели операцию на глаза девочке Наталье Линник*, после чего у неё на лице остались шрамы. Как утверждала мать, об этом их никто не предупредил. В пользу этого говорило информационное добровольное согласие, подписанное перед операцией. Апелляция решила, что его текст «не даёт сделать однозначный вывод о том, что ответчик в доступной форме предоставил всю информацию о целях, методах медпомощи, связанных рисках, осложнениях и последствиях». С таким обоснованием тройка судей постановила взыскать с больницы 100 000 руб. компенсации морального вреда и 50 000 руб. штрафа.
Источник
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает «скорая помощь»

Наша история началась стандартно. Одной гражданке дома стало плохо и была вызвана «скорая помощь». Приехавший врач ничего особенного не усмотрел и рекомендовал женщине на следующий день обратиться к участковому терапевту. На том «скорая» и уехала. Но легче женщине не стало, а до поликлиники на другой день она дойти не смогла, почувствовала себя хуже. «Скорая помощь» была вызвана повторно. И уже врач второй неотложки диагностировал у женщины инсульт. Неотложка отвезла пациентку в больницу. Но было поздно. В больнице женщина скончалась через неделю.
Ее сын был уверен, что в несчастье виноваты врачи, которые не увезли мать в больницу сразу. Он подал в суд на больницу и потребовал два миллиона рублей компенсации морального вреда. Но в местных судах ему не повезло. Даже несмотря на то что в материалах дела было два заключения, которые подтвердили ошибку медиков, суды мужчине отказали. А вот Верховный суд с мнением коллег не согласился. И их решения отменил.
Теперь — подробности этого решения. По закону ответственность за вред пациенту врач несет только в том случае, когда доказана прямая причинно-следственная связь между действиями медика и смертью больного.
С этим и столкнулись близкие жительницы города Дзержинска Нижегородской области. Зимой пожилая женщина почувствовала себя плохо. Дети вызвали матери «скорую».
Приехавшая бригада не измерила температуру и не стала делать кардиограмму, а только констатировала «острое нарушение мозгового кровообращения». Врачи передали информацию в поликлинику по месту жительства пенсионерки и посоветовали ей обратиться к участковому терапевту. Утром следующего дня женщине стало хуже, поэтому она опять вызвала неотложку. Другой медик диагностировал инсульт и принял решение госпитализировать женщину. В больнице та пролежала всего пару дней и скончалась.
После похорон сын умершей начал писать жалобы во всевозможные ведомства, чтобы найти виновных в смерти матери. В местной больнице Скорой помощи провели врачебную комиссию. Она-то и пришла к выводу, что первая «скорая» была не права. То есть вывод комиссии самих медиков гласил — ошибкой был отказ в госпитализации. Наказали медиков не сильно. Главврач сделал подчиненным замечание.
Сын же умершей женщины продолжил жаловаться. В конце-концов, спустя почти два года, в больнице начались проверки регионального управления Росздравнадзора и минздрава области. Подчеркнем — все проверяющие признали нарушением бездействие медиков.
Более того, ведущий кардиолог региона профессор и внештатный эксперт Росздравнадзора подготовил об этом случае свое заключение. В нем профессор подчеркнул, что из-за несвоевременной госпитализации медики упустили возможность «оказать адекватную помощь больной с острым нарушением мозгового кровообращения в стационаре».
Сын женщины, имея на руках все документы, подтверждающие его правоту, обратился в суд и потребовал взыскать с Дзержинской больницы Скорой помощи два миллиона рублей компенсации морального вреда из-за смерти матери.
По ходатайству истца суд назначил судмедэкспертизу в «Кировском областном бюро СМЭ», чтобы установить причинно-следственную связь между действиями медиков и смертью больной. Специалисты в своем заключении записали, что точную причину смерти женщины можно установить лишь при патолого-анатомическом исследовании трупа, которое никто не проводил. В то же время эксперты признали, что бригада медиков оказала помощь с недостатками: не сделала ЭКГ, не измерила температуру и не повезла в больницу.
Правда, в этом же заключении эксперты заявили следующее — даже без учета ошибок медиков «скорой» женщина вряд ли бы выздоровела, учитывая сопутствующие заболевания, такие как нездоровое сердце и гипертонию. И этот документ был приобщен к делу.
Местные суды иск сына рассмотрели. Первая инстанция, ссылаясь на выводы экспертов, истцу отказала. Апелляция оставила такое решение без изменений. Местные суды сослались на отсутствие связи между ненадлежащим оказанием медпомощи и смертью.
После этих отказов сын пенсионерки дошел до Верховного суда РФ. Вот главное, что заявила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. По ее мнению, нижестоящие инстанции напрасно обязали истца доказывать ошибку врачей и ее причинно-следственную связь со смертью пациентки.
Судьи Верховного суда РФ подчеркнули, что истец представил все необходимые доказательства, которые дают ему право требовать компенсацию морального вреда: замечание главврача, который признал ошибку своих подчиненных, и заключение эксперта. А вот Дзержинская больница не привела никаких аргументов, которые бы подтвердили невиновность врачей в случившейся трагедии, подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.
Кроме того, Верховный суд обратил внимание на то, что выводы судебной экспертизы первая инстанция не оценила в совокупности с заключением профессора. Хотя тот установил, что из-за несвоевременной госпитализации медики упустили возможность «оказать адекватную помощь больной в стационаре».
Поэтому Верховный суд считает, что местные суды неправомерно отказали истцу. Все решения судов по этому делу были отменены, а спор Верховный суд отправил на новое рассмотрение.
Эксперты обращают внимание на акт врачебной комиссии, где отказ в госпитализации назван ошибкой. Это важное экспертное мнение, потому что суды стараются не полагаться только на свое усмотрение. И решение комиссии, подтвердившей врачебную ошибку, должно служить убедительным доказательством для суда.
В подобных случаях родственник умершего вправе обратиться в территориальный орган Росздравнадзора с жалобой на действия врачей. Ведомство в таких случаях устраивает внеплановую проверку медучреждения, по итогам которой составляется акт. Этот документ и будет одним из доказательств для подтверждения морального вреда.
Источник
Окончательный диагноз

В своем иске в суд родные просили о компенсации морального вреда за смерть пациента из-за «ненадлежащего оказания медицинской помощи». Суд иск принял. Положенная в таких случаях медицинская экспертиза написала в своем заключении, что в смерти пациента виноват он сам, а вины врачей нет.
Основываясь на подобном заключении, местные суды заявили, что вины медиков они не видят и, основываясь на выводах экспертов, отказали родственникам умершего в компенсации морального вреда. Несогласные с таким решением близкие пошли дальше и выше — в Верховный суд РФ.
Там дело затребовали, изучили и с выводами коллег не согласились, посчитав, что в жалобе жены и дочери покойного есть резон.
Вот суть судебного спора. Житель Челябинска обратился в областную больницу с жалобами на боли в грудной клетке и на одышку. Рассказал, что эти неприятности начались после того, как он неудачно упал на спину. Мужчину осмотрел врач-травматолог и отправил на рентген. Получив снимок, поставил диагноз «ушиб грудной клетки» и назначил соответствующее лечение.
Но спустя всего два дня после постановки «нестрашного» диагноза пациент скончался от пневмонии. У мужчины остались жена и дочь. Они посчитали, что смерть их близкого наступила в результате «ненадлежащего оказания медицинской помощи» врачом-травматологом. Женщины обратились в суд с иском и попросили о компенсации морального вреда в размере трех миллионов рублей каждой.
Истицы уверяли суд, что врач, который принял их мужа и отца, не провел необходимого обследования мужчины, «не изучил рентгеновский снимок его грудной клетки с новообразованием, характерным при пневмонии», не собрал нужные анализы, не поставил правильный диагноз и не назначил положенного при таком заболевании правильного лечения. Калининский райсуд Челябинска назначил комиссионную медицинскую экспертизу.
Согласно заключению экспертизы, травматолог в целом оказал помощь пациенту правильно, но неполно. По мнению экспертов, допущенные недостатки не явились причиной возникновения пневмонии, «но способствовали ее прогрессированию».
Кроме того, прошло заседание лечебно-контрольной комиссии, которая пришла к выводу: врач-травматолог обоснованно выставил диагноз «ушиб грудной клетки», назначил соответствующее лечение и рекомендовал продолжить обследование в поликлинике по месту жительства. А вот этого пациент не сделал и в поликлинику не обратился. По мнению суда, это и привело к трагическому исходу.
В итоге районный суд заявил, что прямой причинно-следственной связи между действиями врача и смертью его пациента он не увидел. И сам по себе факт оказания медицинских услуг с дефектами «не является достаточным основанием для взыскания морального вреда». Поэтому иск остался без удовлетворения. Челябинский областной суд подтвердил правильность и законность такого решения.
В таком виде дело дошло до Верховного суда РФ. И там с подобными выводами коллег категорически не согласились.
Главное, что заявил Верховный суд, — доказывать качество оказания медпомощи должна сама больница, а не пациент или его родственники. И еще — экспертиза не имеет заранее установленной силы, ее нужно оценивать вместе с остальными доказательствами.
Как растолковала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, челябинские суды возложили бремя доказывания обстоятельств, касающихся некачественного оказания гражданину медицинской помощи и причинно-следственной связи между этим событием и смертью пациента, на истцов. А должны были задать эти вопросы областной клинической больнице.
Местные суды не дали оценку доводам вдовы и дочери пациента больницы, что если бы их близкому вовремя и правильно установили диагноз и правильно назначили лечение, все было бы в порядке.
Челябинские судьи, по мнению Верховного суда РФ, не оценили то обстоятельство, что в заключении судебно-медицинской экспертизы отмечены недостатки. Они на этот счет просто промолчали.
Верховный суд напомнил своим коллегам, что обязанность возместить причиненный вред не поставлена в зависимость от степени тяжести такого вреда. Об этом сказано в статье 1064 Гражданского кодекса.
По мнению высокой судебной инстанции, вывод челябинского суда, что гражданину стало совсем плохо только из-за его неприхода в поликлинику, «не основано на нормах материального права». В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда решения челябинских судов отменила и велела пересмотреть дело заново, но с учетом ее разъяснений.
Источник